Эхо времени. Вторая мировая война, Холокост и музыка памяти - Джереми Эйхлер
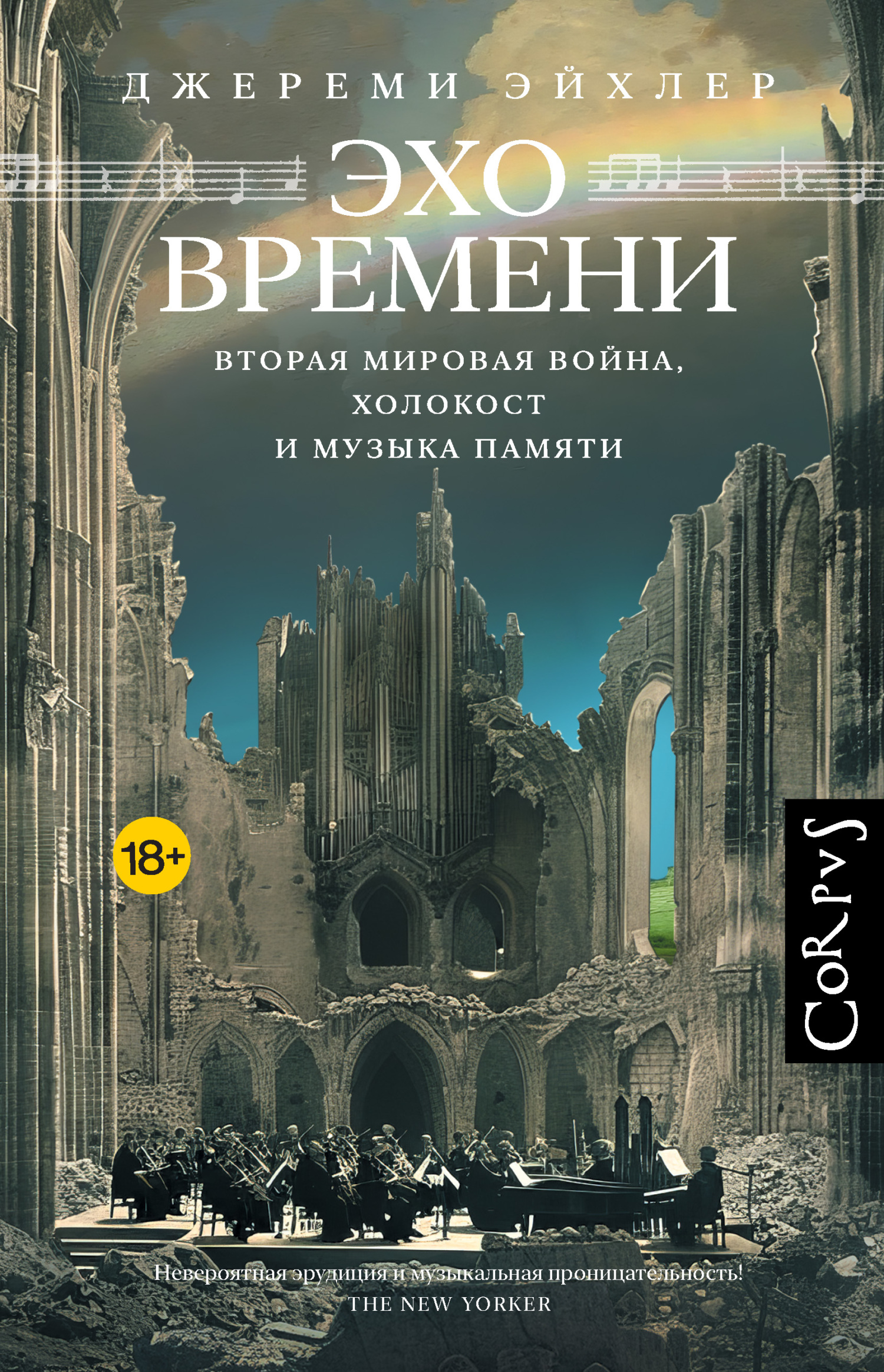
Эхо времени. Вторая мировая война, Холокост и музыка памяти - Джереми Эйхлер краткое содержание
В 1785 году великий немецкий поэт Фридрих Шиллер написал “Оду к радости” и воплотил в ней самые сокровенные мечты европейского Просвещения. Девятая симфония Бетховена подарила словам Шиллера крылья, но столетие спустя та же “Ода к радости” была взята на вооружение нацистскими пропагандистами и извращена до невозможности. Когда речь заходит о том, как общество вспоминает об этих становящимися все более далекими катастрофах, на ум приходят книги по истории, архивы, документальные фильмы, мемориалы, высеченные из камня. Джереми Эйхлер предлагает прислушаться к музыкальным сочинениям-мемориалам Второй мировой. Автор страстно и откровенно доказывает силу музыки как памяти культуры, формы искусства, способной нести смысл прошлого. Автор показывает, как четыре выдающихся композитора – Рихард Штраус, Арнольд Шёнберг, Дмитрий Шостакович и Бенджамин Бриттен – пережили эпоху Второй мировой войны и Холокоста, а затем воплотили свой опыт в глубоко трогательных, трансцендентных музыкальных произведениях, которые и являются эхом утраченного времени. Эйхлер неутомим и изобретателен: он привлекает свидетельства писателей, поэтов, философов, музыкантов и простых людей. Он показывает, как целая эпоха была зашифрована в этих звуках и судьбах композиторов. Эйхлер посетил ключевые места, связанные с созданием музыки, – от руин собора в Ковентри до оврага Бабий Яр в Киеве. По мере того как угасает живая память о Второй мировой войне, “Эхо времени” предлагает новые способы слушать и слышать историю. Узнавать в этой музыке отголоски того, что слышала, о чем писала и мечтала, на что надеялась и что оплакивала другая эпоха. Эта книга, исполненная лиризма и сострадания к ее героям, заставляет нас задуматься о наследии войны, о присутствии прошлого в нашей сегодняшней жизни.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Эхо времени. Вторая мировая война, Холокост и музыка памяти - Джереми Эйхлер читать онлайн бесплатно
Джереми Эйхлер
Эхо времени. Вторая мировая война, Холокост и музыка памяти
Посвящается моим родным
Только сама история, настоящая история со всеми ее страданиями и всеми ее противоречиями, составляет правду музыки.
Время измеряет лишь само себя.
JEREMY EICHLER
TIME’S ECHO
THE SECOND WORLD WAR, THE HOLOCAUST, AND THE MUSIC OF REMEMBRANCE
© Jeremy Eichler, 2023
All rights reserved
© Т. Азаркович, перевод на русский язык, 2025
© ООО “Издательство АСТ”, 2025
Издательство CORPUS®
Прелюдия
Под сенью дуба
Гора Эттерсберг находится в центре Германии, в нескольких километрах от Веймара. Начиная с XVIII века ее поросшие лесом склоны были любимым местом отдыха герцогов, приезжавших сюда охотиться, а позже манили поэтов, которые бродили по крутым горным тропам, любуясь прекрасной природой. Сам Гёте, величайший немецкий поэт, часто бывал в лесах под Эттерсбергом. С годами ему особенно полюбился один большой дуб[1] возле поляны, откуда открывался завораживающий вид на окрестности. А в одно погожее осеннее утро 1827 года под сенью этого величественного дуба для поэта был сервирован завтрак, пышностью напоминавший пир. Прислонившись к стволу царственного дерева, Гёте ел жареных куропаток, пил вино из золотого кубка и наслаждался горными пейзажами. “Здесь, – сказал он, – чувствуешь себя великим и свободным… [таким] следовало бы всегда себя чувствовать”[2].
После смерти Гёте стал олицетворением и немецкого гения, и всего европейского гуманизма. Предание о его любимом дереве бережно сохранялось в здешних краях – и дожило до одного летнего дня, спустя более чем сто лет. В тот день 1937 года группу заключенных доставили в высокогорный лес на склонах Эттерсберга, к известняковому хребту километрах в десяти от Веймара[3]. Там, в суровых условиях, обходясь лишь самыми примитивными инструментами, узники принялись валить деревья, расчищая место под строительство концлагеря.
Пока заключенные ежедневно трудились, возводя собственную будущую тюрьму, кто-то из охранников обратил внимание на одно дерево – и объявил, что его рубить нельзя. В этом дереве признали легендарный дуб, под которым сидел Гёте[4]. Так, уцелев благодаря имени-оберегу, в последующие годы дерево стояло уже в одиночестве, а вокруг него постепенно вырастал концлагерь Бухенвальд.
Для нацистов, создававших Бухенвальд, дуб Гёте олицетворял живую связь со славнейшими страницами истории Германии – истории, доказывавшей культурное превосходство немецкого народа и одновременно устремлявшейся к Тысячелетнему рейху их мечтаний[5]. Узники же Бухенвальда видели в этом дереве нечто совсем иное: неуместный пережиток прежних времен, жгучее напоминание о несбыточных обещаниях европейской культуры[6]. Для них дуб стал безмолвным очевидцем неописуемых преступлений. На протяжении следующих семи лет мужчин и женщин, которые жили в лагере, построенном вокруг этого дерева, порабощали, умерщвляли, морили непосильной работой. По одному из свидетельств, некоторых жертв Гитлера вешали прямо на ветвях дерева Гёте[7]. Сам дуб в конце концов перестал выпускать листья. На снимке, тайно сделанном узником, дерево будто тянет к пустому небу голые, безжизненные ветви.

Дуб Гёте в концлагере Бухенвальд. Photograph by Georges Angéli, June 1944, Buchenwald Memorial Collection.
Кто-то из заключенных концлагеря усматривал связь между участью старого дуба и судьбой нацистской Германии, летом 1944 года катившейся к гибели. Около полудня 24 августа 1944 года в небе над лагерем показались сразу 129 американских самолетов. Сбросив тысячу авиационных и зажигательных бомб, американцы успешно уничтожили военный завод, примыкавший к бухенвальдскому лагерному комплексу. Этот завод и был их главной целью, но были неизбежны и сопутствующие потери: сотня эсэсовцев, почти четыреста заключенных – и старый дуб, испепеленный огнем во время налета[8]. Лагерное начальство распорядилось срубить дерево и распилить его на дрова, но Бруно Апиц – коммунист, находившийся в лагере с момента его основания, – сумел тайком пронести в барак целый чурбан из сердцевины ствола. Рискуя жизнью (и выставив товарищей на караул), Апиц высек в древесной глыбе барельеф в форме посмертной маски. И назвал его Das letzte Gesicht (“Последнее лицо”).
Эта простая, грубо высеченная скульптура – позже тайно переправленная за пределы концлагеря и хранящаяся теперь в Немецком историческом музее – сквозь индивидуальные черты лица показывает колоссальную чудовищность нацистских злодеяний. Ее можно считать одним из первых памятников, запечатлевших Вторую мировую войну и те события, которые годы спустя назовут Шоа, или Холокостом. Это последнее лицо избороздили морщины скорби по всему, что погибло в Бухенвальде: и по узникам лагеря, и, быть может, по всему тому, что олицетворял старый дуб. Иными словами, по громким европейским обещаниям высокой культуры – поэзии, музыки и литературы, и по самой идее гуманизма, который когда-нибудь в будущем мог бы сплотить между собой всех людей.
Пока Апиц трудился резцом, почти в пятистах километрах от Бухенвальда обретал очертания совсем другой памятник, вдохновленный душой немецкой культуры. На своей вилле в Гармише – городке, окруженном горами, восьмидесятилетний Рихард Штраус выписал на листок бумаги два коротких стихотворения Гёте. Одно начиналось строками: Niemand wird sich selber kennen, / Sich von seinem Selbst-Ich trennen (“Никто не познает себя самого, / Не оторвет себя от собственного «я»”). Второе открывали строки: “То, что происходит в мире, / Не в силах понять никто”. Эти размышления о пределах самопознания, должно быть, оказались созвучны мыслям самого Штрауса: ведь композитор потерпел сокрушительное фиаско, не сумев понять ни смысла собственных действий, ни подлинной природы того мира, в котором он оказался в 1933 году. За годы существования Третьего Рейха он совершил роковую ошибку, неверно оценив сложившуюся обстановку, остался в Германии и навсегда запятнал свою репутацию сотрудничеством с нацистами в области культурной политики. Кроме того, он стал очевидцем страданий собственной еврейской родни (в том числе невестки и внуков) и разрушения в годы войны своего истинного духовного дома – оперных театров Мюнхена, Дрездена и Вены.

Скульптура Бруно Апица, Das letzte Gesicht (“Последнее лицо”), 1944. Bpk Bildagentur, Deutsches Historisches Museum Berlin, Arne Psille, Art Resource, New York.
Теперь, в августе 1944 года, утративший почти всякий вкус к жизни Штраус приступил к музыкальному переложению для хора первого из выписанных им стихотворений Гёте, однако в итоге так и не завершил этот замысел[9]. Он переработал возникшие музыкальные идеи, по-прежнему сохранявшие призрачный отпечаток гётевского языка, в новую композицию – как бы закрученное в спираль величаво-скорбное произведение под названием “Метаморфозы”. Ему суждено было стать
Ознакомительная версия. Доступно 23 из 116 стр.